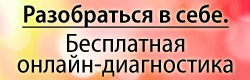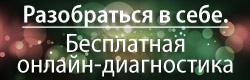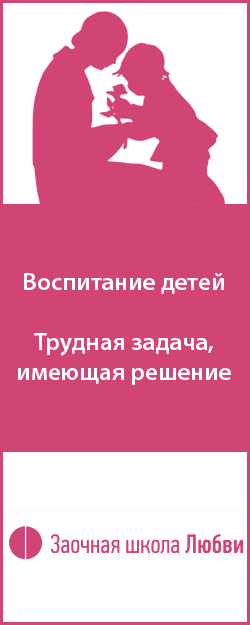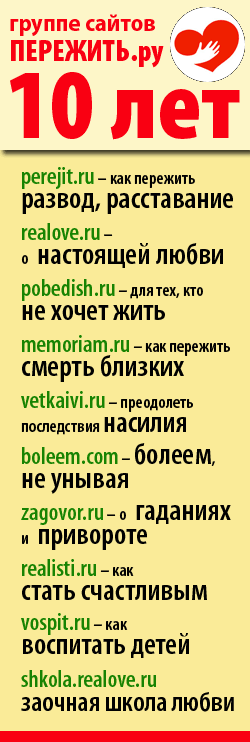Трагедия лесной глуши. Как меня победила лесная нежить
История из книги знаменитого писателя XIX века Владимира Короленко. Он оказался в ссылке в глухой деревне Починки. Жители этой деревни были формально религиозны, храм посещали редко, зато суеверия и колдовство у них широко бытовали. Видимо, следствием такой жизни стала описанная Короленко история, в которой можно угадать действие суккуба. Разумеется, сам Короленко, будучи революционером и материалистом, смотрит на веру жителей Починок в существование нечистой силы иронично. Но, обладая современными знаниями, можно сказать, что невеждой в этой ситуации являются не они, а сам Короленко. Для нас, впрочем, важно лишь то, что автор очень живо и точно описывает происшедшее.
Одной из ярких самородных искорок казался мне тот самый староста Яков Молосненок, которому урядник старался внушить всякие строгости по отношению к ссыльным. История его и его семьи внушала починовцам почти суеверное удивление. Ефим Молосный, его отец, был теперь красивый седой старик, как будто навсегда чем-то придавленный в прошлом. Ефимиха тоже была, по-видимому, когда-то очень красива, но теперь вся как-то высохла, и только прекрасные глубокие черные глаза обращали невольное внимание. Семья одно время сильно бедствовала. Ефиму и его бабе приходилось даже побираться. Они часто в те времена просили у других починовцев «молочка для деток» — отчего их и прозвали «Молосными». Все думали, что семья эта уже никогда не подымется; к их старости у них вырастал один работник, сын Яков. Хозяйство пришло в полный упадок, а два младших сына были «килачи», то есть страдали грыжей, и, значит, оба были не работники. Казалось, что одному Якову не справиться. Семья так и захиреет в бедности и недостатках.
На деле вышло другое. Яков оказался необыкновенно удачлив. Все спорилось у него в руках на диво, спорилось так, что на соседей его удачи производили впечатление чуда. Он стал отличным плотником: топор ходил у него в руках как-то особенно ловко. Не довольствуясь плотничеством и пашней, он брался и за другие дела и, между прочим, выучился красить узорные дуги и подумывал даже об иконах. Дуги эти он мне показывал: узор их был мелкий, довольно пестрый и своеобразный. Очевидно, недовольный ходячими образцами, он старался придумать что-то свое. Узнав, что я умею рисовать, он нарочно приходил ко мне, чтобы расспросить, что нужно для живописного дела. В несколько лет, когда Яков вошел в полную рабочую силу, положение семьи совершенно изменилось. Теперь у Молосных на берегу Камы стояла новая изба из свежего леса, с обширными пристройками, разными узорными коньками и оконницами, просторная, светлая и белая (то есть с печной трубой). О том времени, когда старики выпрашивали молочишка, сохранились лишь воспоминания. Только благодушное лицо старика Ефима отражало на себе тяжелое прошлое, а глаза старухи все хранили выражение застарелой горечи.
Между прочим, рассказывая о лешаках и прочей лесной нежити, мне как-то передали, что на заводях летом водятся еще русалки, которые расчесывают над водой косы, и что их видел, когда был мальчиком, Яков Молосненок. Рассказывали, впрочем, сдержанно, как будто чего-то не договаривая. А не договаривали того, что Яков — колдун и знается с нечистой силой.
Все это интересовало меня все более и более. Я представлял себе этого человека с сильно развитым воображением и художественными задатками, глохнувшими в диком лесу. Он красит дуги, расспрашивает о живописи, видит в детстве на заводях чудесных русалок… И я стал искать случая сблизиться с Яковом Молосненком и поговорить с ним подробно.
Но это оказалось не легко. Яков был рослый молодец с широкими плечами, но несколько впалой грудью и не совсем здоровым цветом лица. Глаза у него были особенные: взгляд их, несколько тусклый в обычное время, производил впечатление какой-то настороженности и углубления. Потом, стараясь объяснить себе впечатление этих глаз, я сказал себе, что взгляд их был как будто двойной: точно на вас смотрели этими глазами два человека. Один вел обычные, довольно тусклые разговоры с недоумениями и колебаниями: господин урядник приказал то-то, или из волости пришел рассылка, принес такой-то приказ, и он не знает, как с этим быть… И все время из-за его обычного взгляда проблескивал мерцающе и смутно другой, настороженный, чутко притаившийся и тоскующий.
Мне придется рассказать, как эта искорка, загоревшаяся в глухом лесу, погасла. Если бы я писал художественный очерк, то тема была бы очень благодарная. И даже теперь художник во мне подвергает искушению бытописателя. Все это могло бы выйти так красиво: глухой лес, говорящий голосами лесных призраков, художественная натура, неудовлетворенная и тоскующая о чем-то красивом и лучшем и поэтому не приемлющая того, что дает эта лесная жизнь. И затем — ее гибель. Так соблазнительно устранить случайные черты, слишком реальные, чтобы быть красивыми.
Но — я пишу только то, что видел сам и что испытал среди этих лесных людей. Поэтому буду рассказывать лишь так, как видел.
Началось это очень прозаически — с приезда урядника в тот раз, когда я говорил с ним в починке Гаврина соседа. Урядник объехал много починков позажиточнее, и всюду его угощали. А так как староста всюду его сопровождал, то угощался и он. В одном починке была пасека, и хозяин угостил почетную компанию одновременно брагой и медом. Яков Молосненок страдал, очевидно, старым катаром желудка, и его после угощения сразу «схватило». Как-то с утра с этим известием явился ко мне отец Якова, старик Ефим Молосный. Лицо его носило следы всегдашней спокойной скорби. Он обратился ко мне как к предполагаемому лекарю:
— Помоги ты нам, Володимер. Более не к кому, ино к тебе…
— Да ведь я не лекарь, лекарств никаких не знаю, да и лечить не умею.
Он смотрел на меня своими круглыми глазами и говорил с тоскою:
— Нет уж, Володимер, Христом-богом прошу — поезжай ты со мной. Сам вот как просит: привези ты, бает, чужедального человека. Коли он не поможет — смерть моя.
В это время ко мне подошли Гавря и Лукерья. Их дочь была замужем за Яковом Молосненком. Лукерья смотрела на меня таким взглядом, что я тотчас же сдался, хотя меня и удивляло немного, что они придают такое значение простому несварению желудка от меду и браги.
— Зельё-то у нас есть, — прибавил повеселевший старик. — Летось баба-начальница проезжала, зелье у нас оставила. Поеду, бает, назад — захвачу. Да, вишь, проехала на Феклистят, а зелье и бросила. Баба моя мекает — какое зелье ему дать… Ты, может, лучше знаешь.
Я подумал, что если среди этих лекарств («зелья») найдется касторовое масло, то я могу оказаться полезным. Мы поехали со стариком. С нами поехал на своих дровнишках и Гавря.
При нашем приезде Яков сошел с полатей, одетый, в валенках и теплом полушубке. Когда он тяжело привалился к стенке голбца, мне показалось, что стенка провалится под напором этого огромного тела. Шея у него была обвязана бабьими платками. Он встретил меня своим двойственным взглядом, в котором мне виделась сдержанная надежда. Старуха мать сидела за столом и разглядывала на свет пузырьки с лекарством. Лицо у нее было озабочено и печально.
— Погляди-кося, Володимер, како бы зелье дать ему. Не вот это ли?
Она показала что-то совсем не подходящее. Я просмотрел пузырьки. Касторового масла не было.
— Не годится, баешь? — сказала бедная старуха, опуская руки на колени. — Чё делать-то нам, чё делать?..
И она посмотрела на меня своим скорбным взглядом, в котором виднелся испуг. Больной сидел на лавке, опустив голову. У него был прежде озноб, теперь жар. Я подошел к нему, пощупал голову, велел показать язык. Голова горела. Язык был обложен.
К сожалению, этими приемами исследования ограничивались все мои медицинские познания. Сам я с детства был очень здоров, лечили нас редко, обходясь липовым цветом, завязыванием горла чулком и только иной раз касторкой.
Я сообразил, что и тут без касторки не обойдешься. Где же взять ее? Я вспомнил об Улановской. До ссылки она училась на фельдшерских курсах, и, может быть, у нее есть домашняя аптечка. И я отправился верхом за три версты в починок Дураненка. Поговорив с Улановской, которая, увы, знала немного более меня, я узнал еще одно средство: мыльные свечи — и с этими сведениями, а также с небольшим количеством касторки отправился опять к Молосным, где дал больному слабительное. Он подчинялся всему покорно, но с каким-то безнадежным видом. Когда я наливал касторку в деревянную ложку, вся семья смотрела на меня, точно я совершал священнодействие. Испуг по поводу пустой, на мой взгляд, болезни по-прежнему чувствовался во всей семье. Килачи смотрели на меня разинув рот. Дочь-подросток с такими же выразительными глазами, как у матери, заглядывала из-за их спин с видом испуга и надежды. Я чувствовал себя в роли благодетельного волшебника.
Когда я возвращался от Улановской, были уже сумерки. Вдоль Камы несло легким снегом, и мглистые тучи покрывали звезды… В избе теперь слышалось порывами легкое шипение метели…
Больного по-прежнему то прошибал пот, то знобило так, что у него стучали зубы.
Выпив, не поморщившись, противное лекарство, он задержал меня в своем углу на лавке под полатями. В этом углу было темно, так как полати нависали над головами. Тут уже была приготовлена постель. Я немного удивился, что ее устроили внизу, а не на печи или на полатях, где было теплее. В это время старуха выслала семейных на двор с разными поручениями. Старик лежал на печи. Казалось, я остался наедине с больным. Он посмотрел на меня своим странным взглядом и сказал:
— Побаять я с тобой хочу…
Он потупился, посидел некоторое время молча и потом спросил глухо:
— Помогет ли, слышь, зельё-то твое?
— Поможет, поможет, Яков. Да и болезнь-то твоя совсем пустая…
— Пустая, говоришь… Нет, не пустая… Это ведь лихоманка…
Я знал, что лихоманкой зовут в народе лихорадку, и тоже не придал заявлению того значения, какое мне невольно слышалось в его тоне.
— Ну так что же, — сказал я. — И на лихоманку есть зелье. Погоди, вот я выпишу из города хину, тогда примемся и за лихоманку…
Он оглянулся кругом и, увидев, что мы в нашем углу одни, сказал:
— Ходит она ко мне…
— Кто ходит? — спросил я с удивлением.
— Да лихоманка же…
— Как ходит? Что ты говоришь!..
— Так и ходит… Давно повадилась, проклятая… И, понурив голову, он прибавил едва слышно:
— Сплю я с нею, бывает. Боюсь я.
Зубы его застучали, и, справившись с ознобом, он рассказал мне «как на духу» следующую странную историю.
Ему и прежде часто являлась «она» под видом женщины… Да и баская же, подлая (красивая)… Все замаливала… А когда он затеял свадьбу — она пришла к нему и запретила жить с женой. У него не было силы ослушаться, и вышел большой грех: три месяца после свадьбы он не жил «с родной женой»…
В это время над нашими головами раздался взрыв женского плача, такой внезапный и сильный, что мы оба вздрогнули. Оказалось, что это Алена притаилась незаметно в темном углу полатей и слушала, затаив дыхание, наш разговор.
— Послухал ее, прокля-ту-ю, — говорила она среди рыданий. — Поверишь ты, чужедальний человек: вышла я замуж и долго не знала, какой муж бывает… А это он с нею, с проклятущею, спутался… 0-о-ой… головонька
И опять взрыв истерического плача заглушил ее слова, прорываясь порой почти кликушескими восклицаниями. Старуха кинулась на полати и почти силой стащила ее на пол…
— Молчи, а ты, болезная, молчи, горемычная…
Она гладила сноху по голове, уговаривая, как малого ребенка. Потом помогла «оболочься» и услала к скотине.
Теперь тяжелая драма этой семьи стала передо мной ясно. Когда пришло время женить Якова, старики посылали сватов в несколько семей, но всюду получали отказ. Семья еще недавно побиралась, и в прочность ее благосостояния соседи не верили. Пришлось обратиться к «непросужей» семье Гаври и взять оттуда невесту. Алена выросла под руководством толковой Лукерьи и была хорошая работница. Она была довольно красива, но, как и младший братишка, походила не на мать, а на отца: в ее лице была какая-то особенная складка, которая довольно резко кидалась в глаза, портя ее красоту. Якову она не нравилась… Еще с тех пор, как в детстве он видел, наяву или во сне, русалок, расчесывающих волосы над заводями в камышах, — в душе его поселился другой женский образ, посещавший его в сонных грезах… И он жил двойственной жизнью: она посещала его во сне, а наяву он считал ее лихоманкой, нечистой силой, которая когда-нибудь придет по его душу…
Я постарался, как мог, рассеять этот кошмар: никакой женщины-лихоманки на свете нет. Он видит ее только во сне… А простая болезнь, лихорадка, легко излечивается лекарствами. Я уложил его, предсказав скорое действие касторки, и отошел в другой конец избы к старухе… Она слышала наш разговор и, когда я подсел к ней, сказала:
— Ты вот баешь, Володимер, будто нет ее… Напрасно… Да ведь не один Яков, все мы ее слышим.
— Как это вы слышите ее? — спросил я с некоторой досадой.
— А так и слышим: взлает кыцян[1] раз и другой. Сам лает, а сам, видно, боится: взлает и завизжит да в подклеть забьется. Потом отворяет она калитку, идет во двор… скрыпит под ею лестница.
Ее большие глаза смотрели на меня пристально и неподвижно, но голос был ровен, точно она рассказывает самые обыкновенные вещи…
— Потом, слышь, скрыпнет дверью, входит в избу… Потом на полати полезет, подваливатся к Якову…
— Да что вы мне рассказываете!.. — крикнул я невольно.
— Истинная правда — вот те крест. Потом, слышим, начинает он ее целовать… И дверь пробовали запирать… Ей ничего, и запор не берет. И слышь — не видно никого, а только слышно… Кого хошь спроси.
В это время Ефим слез с печи и подошел к нам. Поражавшее меня в его лице выражение угнетенности и скорби теперь было особенно сильно. Темно-синие детские глаза глядели с наивной трогательной печалью.
— Верно, — подтвердил он. — И я чую… Да не то что я — все чуют, вся семья.
Мне осталось только предположить, что вся эта семья переживает то, что мы по-книжному называем коллективной галлюцинацией. Но — как объяснить им, что это — только простой обман чувств и что в действительности темный бор над Камой, шумевший и в эту минуту под налетами ветра, не посылает к ним своих роковых посланцев…
В это время Яков зашевелился и поднялся с лавки. Старуха кинулась к нему, и оба они вышли. Она поддерживала его под руку. Я обрадовался: очевидно, действует моя касторка… Авось, думал я, это простое прозаическое средство окажется сильнее мрачных призраков, осадивших эту лесную избу.
Через некоторое время оба вернулись. Яков сел на свою лавку в углу, а старуха подсела ко мне. Она видимо повеселела.
— Легче, слышь, от зелья-те, — заговорила она, глядя на меня благодарными глазами.
— И совсем пройдет, — сказал я. — Только почему вы устроили ему постель в углу? На полатях и просторнее, и теплее…
Она наклонилась ко мне и сказала, понизив голос:
— Нарочно мы это… Тут ей, проклятой, подвалиться-то некуда… Лавочка-те узка.
Семья стала возвращаться со двора. Пришла и Алена, покормив скотину. Я подошел к Якову и пощупал голову. Мне показалось, что жар спадает.
Собрали на стол к ужину. В избе точно повеяло другим настроением. Все повеселели. Яков попросил есть. Старуха налила ему квасу и стала крошить в чашку хрен…
— Любит он, — сказала она, указывая головой на Якова.
— Нет уж, с этим погодите. Нет ли чего полегче?.. Полегче ничего не было. День был постный. Больной поел то же, что и другие члены семьи. У меня все-таки хватило познаний, чтобы посоветовать есть поменьше, но… всякий врач скажет, вероятно, что я должен был настоять на большей диете. Повторяю, я был совершенный невежда.
Ужин еще не был кончен, как на Каме послышались бубенцы. Звуки то доносились с порывами ветра, то стихали. Старуха прислушалась и сказала:
— Фатька это гуляет… Три дня, сказывают, крутит. — Лицо ее стало озабочено.
— Гли-кося… К нам сворачивает.
Лицо больного нахмурилось… Было видно, что посещение Фатьки неприятно ему и всем. Сани, очевидно, изменили свое направление: звук бубенцов донесся явственней: сани подымались по взъезду…
Потом послышался шумный говор и топот. Компания всходила по лестнице. Дверь отворилась, и в избу ввалились три мужика. Впереди шел коренастый мужчина в тулупе мехом вверх… Это и был три дня крутивший Фатька. За ним шел тот самый безносый мужик, который приезжал ко мне в первый раз с Несецким. Третьего я не знал. Все были пьяны.
Фатька, не забыв покреститься, не разболакаясь, остановился шагах в трех от стола и посмотрел на Якова и его семейных насмешливым взглядом.
— Что, брат: одолевает она тебя?..
Яков поморщился, как от удара, и сказал с видимой досадой:
— Брось!..
— Чего брось… — И Фатька грубо захохотал. — Ослаб ты, видно, Яшка. Одолеет она тебя, не справишься дак… Гляди на меня: третий день крутим этак. Не поддаюсь я ей. Я ее не испужаюсь: сама меня испужается… Вишь, я какой!
Он действительно был похож более на медведя, чем на человека. Я вспомнил, что когда мне рассказывали о лешаках и прочей нежити, то, между прочим, упоминали и о Фатьке; к нему тоже повадилась лихоманка: ходит под видом умершей жены и заставляет жить с ней. Он очень любил покойницу. Она тоже. После ее смерти сильно тосковал. И вот лихоманка стала приходить к нему по ночам, под видом жены… Но он ей не поддается. Заметив меня, Фатька захохотал и свистнул:
— И ты, чужедальной человек, тут. Ну, пропал ты, Яков… Не помогет тебе чужедальной человек, коли сам подашься.
— Послушай, — сказал я ему, — ты бы приехал когда в другой раз. Видишь сам: человек болен. Ему не до гостей.
— Гонишь!.. — сказал Фатька и опять захохотал. — Ну, ин быть по-твоему. Поедем, товарищи, в ино место, где нам будут рады: вишь, водку-те не всю еще вылакали. Прощайте ино, молосняты…
Вся компания вывалилась из избы, и скоро звон шаркунцов смолк на Каме. Я остался ночевать.
— Ляг, Володимер, подле меня… Постелите вон тут, на лавке, — указал Яков в ногах у своей постели. Я понял: он думал, что лихоманка побоится чужедального человека. Когда все улеглись, я услышал, как старуха говорила Алене:
— Слышь, он бает: не лихоманка это — сонная греза.
Алена грустно простонала что-то в ответ. Может быть, сонная греза казалась ей не легче лихоманки. Ночью, проснувшись, я прислушался: Яков спал. Дыхание его было ровно. Лихоманка в эту ночь не приходила.
Наутро настроение в нашей избе совсем просветлело. Жар у Якова заметно упал. Он видимо ободрился, а за ним ободрились все. Мне теперь казалось странным, что даже я подчинился вчера до известной степени общему настроению, и положение показалось мне таким устрашающим. Конечно, то, что им кажется, действительно грозно для них. Они, как дети, боятся темноты, лесного шума, призраков своей фантазии. Но как случилось, что и я-то сам, очевидно, преувеличил значение для них этих призраков. Я теперь опять шутил над лихоманкой…
— Вот видите: немного зелья, и вашей лихоманки как не бывало. Яков видел ее во сне. Мало ли что человеку пригрезится. А вы поверили, и вам чудится от страха.
Они слушали мои слова с недоверчивой улыбкой так же, как раньше починовцы слушали мои шутки над лешаками. Они знали свое так же твердо, как и я знал свое. Для нас это были две противоположные очевидности. По их мнению, лихоманка «испугалась» меня и моего зелья. Я был чем-то вроде светлого гения, прогнавшего нечистую лесную силу. Вся семья смотрела на меня с благодарностью и почтением…
До сих пор во мне живо еще сожаление, что я не остался у них до полного выздоровления Якова. Но, уезжая с Ефимом, я оставил дома неоконченную работу и начатое письмо: я ждал, что скоро должен представиться случай отправить письмо в Глазов, и не хотел пропустить его. Я попросил конька и собрался уехать на несколько часов домой. Старуха вскинула на меня свои черные глаза, но успокоилась, когда я сказал, что к ночи вернусь: они, очевидно, все еще боялись. К сожалению, я-то совершенно перестал бояться, и мне было немного совестно перед собой за вчерашние опасения. Поэтому, все так же шутя, я уехал на молодом коньке. Это был любимый конек Якова.
Утро было светлое. Метель как будто стихла, но погода была ненадежная. Когда я ехал по Каме, бор то и дело принимался шуметь глухими порывами, а местами на поворотах реки ветер взметал накиданный прошлой метелью снег. Ветер все крепчал. В семье Гаври меня встретили тревожными вопросами и, видимо, очень обрадовались успокоительным вестям.
Было еще рано. Я кончил работу и принялся за письмо. В этом письме я описывал в шутливых тонах, как обстоятельства сделали меня лекарем и как я чувствую себя в этой роли беспомощным невеждой. Между тем я вижу теперь, какое огромное значение имеют простейшие медицинские сведения, и очень жалею, что ничего в этой области не знаю.
Я доканчивал письмо, когда со двора пришел Гавря с несколько встревоженным видом.
— Слышь, Володимер, — сказал он. — Чтой-то конек Якова шибко мечется в загоне. Не чует ли каку беду на свово хозяина.
Я вышел наружу. Метель усилилась. Это было заметно по голосам леса. Близкие перелески шипели на разные голоса, а гул закамского бора раздавался протяжно и глухо, составляя как бы фон для этих звуков. Я посмотрел на конька. Он подымал голову, настораживал уши, раздувал ноздри и смотрел перед собой испуганными глазами. Временами он подымал хвост трубой и принимался бегать кругом небольшого загона. Очевидно, его беспокоила метель и незнакомое место, где он был отлучен от обычных товарищей.
Я осмотрел жерди, загораживавшие выход из загона, и вернулся в избу кончать письмо. Потом запечатал и отдал Гавре на случай появления " посылки», который недавно пришел из волости с каким-то приказом в дальние починки и скоро должен был вернуться. В это время один из парней вошел со двора и сказал:
— Конек-то убёг. Перемахнул через воротину и понесся… Только пылит за ним.
Гавря и Лукерья забеспокоились:
— Гляди, с хозяином-те плохо. Неспроста. Экую высоту перемахнул!..
Я выбежал на взъезд… Метель усилилась. На равнине за Старицей еще мелькала темная точка. Это конек Якова несся по направлению к Каме. Я вернулся в избу, наскоро оделся и пошел по той же дороге. Я вспомнил вчерашний квас с хреном и пожалел, что сегодня, успокоенный и, может быть, слишком беспечный, не дал особых наставлений насчет диеты.
— Погоди, вот Павелко вернется с сеном — отвезет тебя… — сказал было Гавря. Но мне ждать не хотелось. С приближением вечера и метели на душе опять становилось тревожно.
— Поди, Володимирушко, поди, — поощряла меня и Лукерья. — Павелко еще коли вернется, а у меня сердце чует беду…
До починка Молосных было версты три. Дорога почти все время пролегала по Каме между крутыми берегами, кое-где меж двумя стенами леса. Сбиться не было возможности, но дорогу сильно перемело, и идти приходилось по колена в снегу против сильного ветра. Порой я останавливался и поворачивался спиной к метели, чтобы отогреть хоть немного лицо и руки. Вечерело. Сумрачный гул бора действовал на мое настроение.
К починку Молосных я подошел уже среди густых сумерек: избы едва виднелись в снежной пыли. И вдруг я увидел на горе какие-то движущиеся огни. Пучки лучины, раздуваемые ветром, сыпали искрами. Они прошли от избы к одному из надворных строений. Я догадался: для больного, очевидно, истопили баню.
Что же это? Стало ему лучше, или, отчаявшись в моих средствах, они прибегают к своим, привычном.
Я прибавил шагу и скоро был в избе… На лавке, опустив седую голову, сидел Ефим. На мой вопрос он сказал, что Якова повели в баню. С обеда ему стало хуже. Опять весь горит и говорит невесть что. Все с ею разговаривает. Грозил посечь ее, коли придет за ним… Вон, гляди-кось… Сам косу повесил.
Над изголовьем постели Якова я увидел в щелеватой стене косу-горбушку с прямой короткой ручкой, какие употребляют в лесных и болотистых местах. Кроме того, в той же стене неподалеку виднелся серп и нож-косарь. В разных местах подальше торчали еще разные орудия в том же роде. Очевидно, вся семья готовилась эту ночь к генеральному бою с лихоманкой.
— А чем кормили Якова? — спросил я.
— Да чем кормили!.. Все будто здоров был. Есть запросил. Поесть, бает, больно охота мне. Налила старуха квасу-те, хлеба накрошила, да хрену… Больно охоч он до квасу с хреном. Чашки три, гляди, опростал. А стало вечереть, тут его и схватило пуще вчерашнего.
Сердце у меня упало. В извинение себе могу только повторить, что в нашей семье уход за больными был явлением редким и я привык полагаться на здоровую натуру. Как бы то ни было, благоприятные результаты вчерашнего приема «зелья» пошли прахом. А больше лекарства не было.
На крыльце послышался топот многих шагов, потом шум, среди которого выделялся неистовый протяжный мужской крик. Я не сразу узнал голос Якова: это был как будто вой крупного, смертельно испуганного животного, прерываемый исступленными ругательствами и угрозами. Общими усилиями женщин и килачей Якова втащили в избу и положили на его постель. Он метался, вздрагивал и кусал губы…
Я подошел к нему и громко поздоровался. Он глядел несознательно, но, видимо, все-таки узнал меня: схватил мою руку и стал крепко прижимать к своей груди, бормоча что-то невнятно. Мне слышались среди этого бормотания слова: «Не давай, не давай».
Понемногу он как будто начал успокаиваться. Порывистые движения стихали. Голова его лежала на подушке, глаза то закрывались, то бродили по сторонам. В другом конце, у печки, светила лучина, и эта половина избы рисовалась отсюда светлым фоном.
Вдруг Яков выпустил мою руку и весь рванулся.
— Вот она, пришла за мной!.. — крикнул он испуганным и диким голосом.
Я невольно оглянулся и вздрогнул. За мной стояла женская фигура, рисуясь на светлом фоне резко очерченным силуэтом. Я не сразу узнал Алену, подошедшую тихо к постели. Старуха тоже кинулась к сыну.
— Что ты, что ты! Ай не узнал родную жену… Но глаза Якова стали совершенно безумными. Он, видимо, ничего уже не понимал и был весь во власти завладевшего им образа. Лицо его исказилось. Скошенные глаза блуждали и сверкали белками. Сильно рванувшись, он протянул руку к косе, но я сразу уперся руками в его плечи, отвалил его на подушку и старался держать его в этом положении.
— Зарублю… посеку… — бормотал он сквозь стиснутые зубы.
Я напрягал все силы, понимая, что если безумный овладеет косой, то может произойти какое-нибудь страшное дело. Между нами началась борьба. Я все время налегал на его плечи, не давая ему подняться. Он шарил руками кругом, стараясь захватить со стены серп или косу. Я хотел сказать кому-нибудь, чтобы убрали косу, но, оглянувшись, увидел себя в центре какого-то повального безумия. В избе водворился настоящий шабаш. Все члены семьи, особенно женщины, похватав заготовленные в стенах орудия, размахивали ими как сумасшедшие в надежде убить невидимую «лихоманку». Даже девушка-подросток, сверкая в исступлении своими черными глазами на побледневшем лице, вертелась на середине избы, размахивая серпом. Только старуха мать, видимо, не потеряла головы и могла еще рассуждать. Я увидел ее около себя: она тоже держала в руке большой нож-косарь и колола им в" воздухе с таким расчетом, чтобы ранить лихоманку, когда она захочет навалиться на Якова. Лицо ее было скорбно, но спокойно, как у человека, сосредоточившего внимание на одной трудной задаче. Старик сидел беспомощно на лавке, килачи забились в угол у печки.
Мне удалось совершенно овладеть Яковом, и я чувствовал, что не дам ему подняться. Глаза его теперь смотрели как-то покорно и неподвижно…
— Пришла, пришла!..
Этот крик вырвался у Ефимихи сосредоточенно и печально, и она стала колоть и рубить воздух у самых ног Якова. Ей на помощь кинулась Алена с искаженным злобой лицом.
— Что вы, безумные! — крикнул я. — Видите: больной успокаивается.
— Ай ты не видишь, Володимер? — прозвучал надо мной печальный голос матери.
Я взглянул пристально в лицо Якова, и дрожь прошла у меня по телу. Глаза его уставились в пространство с странным выражением истомы и безнадежности. Все тело ритмически двигалось под моими руками, из груди вылетали такие же ритмические, прерывистые вздохи… Он походил на человека в любовном экстазе.
Я все еще растерянно держал его за плечи и почувствовал, что рубашка его стала вся мокрая. Он сделал еще несколько движений, все слабее и слабее…
— Ну вот ему лучше, — сказал я.
— Кончается, — сказала мать.
Что это она говорит?.. Не может быть. Это безумие, подумал я, но через некоторое время заметил, что, пылавшее прежде жаром, тело Якова начинает холодеть у меня в руках. Лицо его странно и быстро успокаивалось, и через некоторое время на него точно кто накинул покров полного спокойствия… Я взял его за руку. Она была холодна…
Алена завыла.
Я еще не мог опомниться от пережитого кошмара и почувствовал неодолимую потребность выйти на свежий воздух. Так, как был в избе, я вышел наружу.
Метель как будто стихала, но все еще шипели близкие деревья и гудел бор. Порой звуки крепли, перемешивались, сливались в разноголосый и торопливый шум, порой широкими взмахами летели вдаль. И мне показалось, что глухой лес полон своеобразной жизни, а в голосах метели мне невольно чудилось злорадство… Еще вчера я так беспечно торжествовал победу над лесной нежитью. Теперь я продрог и чувствовал себя беспомощным. Войдя в избу, я застал здесь картину признанной всеми смерти. Яков лежал неподвижно. В сложенных руках виднелась небольшая иконка. Старуха приглаживала у него волосы. Глаза ее глядели так же печально, как всегда: точно их прежнее выражение было только предчувствием этой минуты… Ефим еще более понурил голову, точно придавленный новой тяжестью. Алена причитала на полатях, точно пришибленное и испуганное животное, а два килача стояли, обнявшись, посреди избы и, раскачиваясь со стороны на сторону, протяжно выли…
Старуха остановила их и послала одного к соседям. Нужно было обмыть тело, пока не началось окоченение. Но парень взвизгнул от страха и отказался идти один. Пришлось послать обоих к соседям, в версте или полуторах. Килачи оболоклись и вышли, но через полчаса вернулись. Никто нейдет. «Бают: страшно». Старуха низко нагнула голову… Я понял: по мнению соседей, Якова уволокла ночью нечистая сила… И может быть, бедная мать сама думала то же…
Через некоторое время дверь тихо приотворилась, и в ней показалась огромная, мрачная голова Лизункова. Он осторожно оглянул избу. Увидев меня, направился прямо к тому месту, где я сидел, и сел рядом со мною. Между тем в избе все стихало. Старуха полезла к старику на печь, и оттуда послышались звуки, точ стонала большая птица. Это плакал старик. Старуха говорила что-то. Может быть, успокаивала. Алена временами начинала причитать, девочка всхлипывала сквозь сон.
Мы с Лизунковым тихо разговаривали, поддерживая свет заготовленной лучины. Весь какой-то тяжел и мрачный, он говорил тихо своим глухим голос, наклоняясь к моему уху:
— Отослано, не иначе…
— Что отослано? — спросил я.
— Насыл… Вы разве не знаете? Оттого и соседи не идут… Покойник, не тем будь помянут, — колдун был. Умел лихоманку посылать по ветру… Да, видно, напала коса на камень. Тот сам был колдун: сумел отослать; вот она прилипла к нему, да и утащила с собою.
— Лизунков, — сказал я с досадой. — Вы, кажется, в бога не верите, даже ругаете нехорошими словами…
— Могу… Думаете, боюсь сейчас…
— Нет уж, пожалуйста, не надо. Но как же это, не веря в бога, вы верите в колдовство и чертовщину…
— Да я что ж… Люди говорят… Мне — что…
Наутро солнце встало ясное и чистое. Сквозь изморозь и снег, наметенные метелью, оно весело заглядывало в избу Молосных. Ночные страхи рассеялись, и в избу пришла стайка молодых женщин с соседних починков.
Я хотел уйти, чувствуя себя беспомощным и лишним. Но когда я выразил это намерение, одна из пришедших, самая бойкая молодая воструха, пройдя мимо меня, шепнула: «Не уходи, слышь, ночью-те страшно будет нам».
Я остался еще на ночь. А на следующий день, отказавшись присутствовать на проводах и поминках, ушел из починка Молосных, точно с поля битвы, где потерпел позорное поражение…
7403 |

|
Владимир Короленко Владимир Короленко. "История моего современника". |
 Версия для печати Версия для печати |
| Еще материалы по этой теме: |
Половые отношения с нечистой силой: современные свидетельства
Инкубы и суккубы в средневековой демонологии (А.Е. Махов)
Суккубы и инкубы: история изучения
Суккубы и инкубы в представлениях оккультистов


 Иеромонах Изосим (Горшунов)
Иеромонах Изосим (Горшунов)
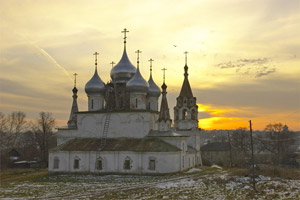 Susan, 25 лет
Susan, 25 лет
 Брат
Брат
 Юлия Новикова
Юлия Новикова
 Игорь, 32 года.
Игорь, 32 года.
 Брат
Брат
 Протоиерей Сергий Николаев
Протоиерей Сергий Николаев
 Никодим Скромный
Никодим Скромный
 Никодим Скромный, бывший маг
Никодим Скромный, бывший маг
 Дмитрий Семеник
Дмитрий Семеник
 Светлана
Светлана

 Евгения Трубинова, 39 лет
Евгения Трубинова, 39 лет

 Алексей Боголюбов
Алексей Боголюбов
 Антон П., бывший маг
Антон П., бывший маг
 Елена
Елена
 Наталья, 35 лет
Наталья, 35 лет
 Анна
Анна